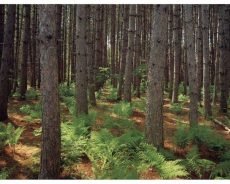известный фотограф – и юрий, почетный член Союза журналистов и Союза фотохудожников России. Собственную разнообразную и во многом эпическую фотографическую судьбу начал со работы в аэрофоторазведке на протяжении Второй мировой войны, а по окончании войны прошел путь от фотолаборанта в «Огоньке» до редактора отдела фотожурналистики в ежемесячнике «Советское фото».
В ранге фотолаборанта опубликовал собственный первый снимок в центральной прессе – «Похороны Сталина», –сделанный на единственный имевшийся у него 50-ти миллиметровый объектив и смонтированный из 14-ти кадров. Человек, что занимался настоящей экстрим-фотографией, совершая в связке с альпинистами восхождение на Памир, спуск в гидростате на дно Баренцева моря, полет с воздушными акробатами на протяжении выполнения «мертвой петли»… Об этом и многом втором Юрий Михайлович говорит в интервью.
 — Ваша первая специальность: аэрофоторазведка. Что это за три в одном?
— Ваша первая специальность: аэрофоторазведка. Что это за три в одном?
— Воздушная разведка посредством фотографии. Самолет летит, и фотограф снимает всё, что видит. Тут собственные жанры. Имеется одиночные кадры местности.
Имеется маршрутная съемка – вы летите, друг за другом делаете кадры, позже из данной цепочки монтируете, как ленту, маршрут. И имеется площадная съемка – вы проходите один маршрут, второй, третий, позже всё складываете и приобретаете площадь. На протяжении войны, в то время, когда необходимо было иметь данные о территориях боевых действий, эта съемка имела огромное значение.
К примеру, вся площадь Восточной Пруссии была снята так. Время от времени применяли стереосъемку: снимали с громадным перекрытием (так, дабы кадры процентов на двадцать перекрывали друг друга), и при последующем просмотре через стереоскоп на фотографии все объекты поднимались, плоское изображение преобразовывалось в объемно-выпуклое, в современное 3D.
— В аэрофоторазведке, возможно, несколько фотограф, а целая несколько фотоспециалистов нужна?
— Имеется конкретно съемка. Снимает либо навигатор, либо, в случае если что-то важное, эксперт аэрофотослужбы. Фотолаборант проявляет, печатает. Фотограмметрист дешифрирует снятое, определяет, где какие конкретно армейские объекты, не смотря на то, что имеется съемка и с топографическими целями. Осознать, где стреляющие орудия и где так именуемые задульные пространства, возможно по некоторым приметам.
Зимний период – по испачканному снегу: порох оставляет на снегу чуть заметную полосу. Летом – по листве: в случае если орудия в ней замаскированы, то она самую малость жухлая… Благодаря аэрофоторазведке перед армейскими начальниками была картина боя, и они имели возможность вести его с меньшими утратами.
— А как и в то время, когда Вы появились в аэрофоторазведке?
— В 1944-м году целый отечественный учебный батальон ВВС Северного флота, куда я сперва попал, и по большому счету целый отечественный год рождения, 1926-й, последний призывной возраст, послали по армейским училищам: командный состав убили в битвах, и требовалось подготовить начальников, в особенности экспертов таких армий, как артиллерия, авиация, флот. Я был направлен в Молотов (Пермь). Тут готовили самых различных, нужных в авиации людей: летчиков, навигаторов, техников, инженеров, мотористов, шифровальщиков, радио- и фотослужбу.
Мы должны были за год пройти трехлетний курс. Но пока мы обучались, война – тут, на западе – кончилась. За два месяца до окончания учебы нас выпустили, присвоили сержантские звания и послали на Дальний Восток в авиацию тихоокеанского флота.
Попал я в Софийск, на Амуре, на «летающие лодки», в 117-й Отдельный морской дальнеразведывательный летный полк. В 3-ей эскадрилье заменил какого-либо случайного человека, что привел в негодность все, что лишь возможно было, у него лишь 1 фотоаппарат трудился из 20. И я должен был за полтора месяца все вернуть.
Вернул. На протяжении учебы мы изучили устройство аппаратуры так, что знали ее с закрытыми глазами.
— Опоздала закончиться одна война, как Вы попали на другую, японскую…
— Да, отечественный полк высаживал десанты в Порт-Артуре, в Порту Дальнем, в корейских портах, кое-где в Китае. Были громадные гидросамолеты, «каталины» американские, по ленд-лизу полученные, в них по 20 десантников умещалось. И мелкие, одномоторные, они летали на маленькие расстояния, занимались лишь съемками.
Мы базировались на питьевой воде, на Амуре – от морской соли самолетная дюраль разрушается – взлетали, выходили через 60 км на громадную воду и уже дальше морем, Охотским, Японским, Негромким океаном: районы отечественных съёмок и полётов – Камчатка, Курилы, Сахалин. Через какое-то время я в хвосте самолета оборудовал фотолабораторию, и в то время, когда мы летали на важные и своевременные задания, пленки проявлял в воздухе, скоро сушил со спиртом, печатал снимки и также со спиртом сушил, на обратной стороне писал эти по дешифровке, заворачивал фото в особый вымпел, и, пролетая над базой флота, вымпел сбрасывал.
Устанавливал собственного рода рекорд: за 31 60 секунд по окончании съемки уже сбрасывал готовые фотографии. За это мне кроме того премию давали.
Ю.Кривоносов. жаркий полдень. 1950-е гг.
-А что видели с высоты?
— Полеты над морем весьма занимательны. Действительно, в то время, когда солнце светит, блики глазам весьма мешают, в особенности при поиске подводных лодок. Лодки эти видно кроме того на громадной глубине, в случае если дно яркое.
Но их возможно перепутать с китами. Разве что киты иногда фонтан выбрасывают, а лодка – нет. По фонтану и различали… И на море насмотрелся, и на тайгу около Амура, и на сам Амур – река эта, само собой разумеется, большая…
— А как ваша должность именовалась?
— Начальник отделения аэрофоторазведки, не смотря на то, что по профессии первоначально фотомеханик. В отделении – 6 человек. Была «наземная» фотолаборатория, мы сами ее оборудовали в каком-то закинутом строении. Но во всем существовала строгая секретность, запрещалось кроме того мусор выносить, его сжигали в печке. Тайная работа, одним словом.
Исходя из этого у меня никаких снимков нет военных, фотографии уничтожались по акту, и пленки сжигались со временем… Время от времени были ночные полеты. не забываю, на учениях отечественный радар выяснил в море какой-то корабль – в том месте, где, мы знаем, не должно быть никого и ничего. И решили мы данный малоизвестный корабль сфотографировать. Для этого у нас были «фотобомбы»: в них по 35 кг магния, вспышка по яркости получалась в два миллиона свечей. Кнопка бомбосбрасывания у навигатора, он мне говорит: «Скинул бомбу».
Я – ему: «Упала бомба», другими словами, отправилась. Тут навигатор зажмуривается от света, а я снимаю. Два захода над кораблем сделали.
Позже, в то время, когда показал, заметил: один раз я корабль прямо в центре кадра поймал, а во второй зацепил с краю, по причине того, что все согласно расчетам было, до вспышки в темноте ничего не видели.
— Что же это был за корабль-призрак?
— Был американский корабль какой-то. Через пара дней последовала официальная информация приблизительно для того чтобы содержания: ТАСС уполномочен заявить, что сообщение американского руководства о том, что их корабль облетали и чем-то ослепляли, не подтверждается, советских самолетов в этом районе не было… Но мы были в том месте однако!.. А большей частью простую делали съемку.
На учениях, к примеру, посредством фотографии проводился контроль бомбометания. Навигатор бомбит, нажимает кнопочку – а где-то на воде щит, он обязан попасть по нему. Парни время от времени мазали, им оценки за это, как в школе, снижали, так они к нам, к фотослужбе – за помощью.
И мы, бывало, выручали ребят: карандашиком на пленке взрыв рисовали, и навигатор приобретал «зачет». Мошенничали — юные были.
— Понадобились Вам навыки, полученные в аэрофоторазведке, в предстоящей журналистской судьбе?
— Я позже довольно много летал, и навыки той работы были крайне полезными. Каждая съемка с самолета имеет в собственной базе одинаковый принцип, лишь аппаратура вторая и цель вторая. Был у меня эпизод в моей редакционной судьбе: я полетел в Таджикистан — в том месте сорвался с места ледник Медвежий, и я должен был его снимать. Он шел с аномальной скоростью, в сутки по 20-30 метров!
А внизу в ущелье поселки и речное русло. Ледник имел возможность закрыть ущелье собственной массой, и в том месте начала бы накапливаться вода… Я прилетел в Душанбе. Вижу, какие-то люди ходят с устройствами, в ковбойках, а двое из них – с ледорубами. Выяснилось, все из Академии наук, гляциоги. Также летели на ледник, на разведку. Я к ним примкнул. Поместили нас на госдаче, в том месте проходило заседание по обстановке с Медвежьим.
На следующий сутки нам дали самолет маленькой АН-6, похожий на «кукурузник» АН-2, но высотный. И мы полетели на Памир. Гляциологов было человек 6-7, они позанимали окна все и стали снимать. А мне окна не досталось.
Так как полет-то для них все же организован был, а не для меня. Лишь в самом хвосте створка была, а в том месте низкое окно. Ну, я поднялся на коленочки и поснимал в то окно.
Позже, в то время, когда мы прилетели в Москву, мне звонят эти гляциологи: «Юра, у тебя имеется снимки хорошие?» Я говорю: «Имеется, а что?» – «Да у нас не быстро…» Само собой разумеется. Секрет в том, что они не знали законов аэрофотосъемки. Так как аэрофотоаппарат устанавливается на резиновых многослойных амортизаторах, дабы гасилась вибрация.
А вдруг без них снимаешь, то, во-первых, нельзя прижимать объектив к стеклу, во-вторых, запрещено ни на что опираться руками. Всё нужно делать на весу, тогда руки и тело являются этими самыми амортизаторами, и все получается нормально. Я это знал, а гляциологи уперли в стекло объективом либо локтями упирались, по неопытности… Так что моя ветхая профессия помогла.
Из репортажа Неудачный рейс
— Это в ту командировку Вы с альпинистами в связке ходили?
— В ту. Двое, что с ледорубами были, были альпинистами: перворазрядник Дмитрий Милованов и мастер спорта Константин Рототаев – он и гляциолог, и географ, и альпинист, наделенный особенными полномочиями. На него, в основном, ложилась ответственность за разведку закрытого ледником озера, которое успело накопиться в ущелье Абдукагор.
Было неизвестно, в то время, когда это озеро может рвануть. Мы его видели с самолета, и по первой прикидке в нем уже было пара десятков миллионов кубов воды. Но нужна была более правильная разведка.
И эти двое пошли. А с ними и я. Нужно заявить, что я к альпинизму ни при каких обстоятельствах никакого отношения не имел, и лишь незадолго до прошел у Кости ликбез – основное, что я сходу запомнил, это как нужно перецеплять веревку – перед тем как вынуть из карабина одну, в том направлении нужно вложить другую…
— Чего лишь не сделаешь «для нескольких строчек в газете», в этом случае, для нескольких фотографий?..
— Да. Но снять-то удалось не все. Мы уперлись в «стенку», и 5 часов проходили скальный траверс по полкам, расщелинам, забивая крючья, перехватывая веревку. Я не сделал ни одного снимка – грудь все время была прижата к горе, аппарат в портфеле за спиной, в противном случае от него ничего не осталось бы.
Да и не до фотоаппарата тут. Позже ночевали на щебнистом склоне. Выдолбили в нем ледорубами две полочки: одну выяснили Диме, а на второй, чуть более широкой, устроились мы с Костей, причем лежать было возможно лишь на боку. Костя сообщил: «Поворачиваться лишь в один момент!» Дремали пристегнутыми — канаты крепились к титановым крючьям, вбитым в гора.
Меня поставили в известность: в случае если упаду, чтобы не пугался, провисну лишь на 2-3 метра, больше не позволит веревка… Но проспали благополучно, не обращая внимания на то, что рядом скрипел, стонал и грохотал движущийся ледник. По окончании того, как мы возвратились в лагерь, и были составлены прогнозы прорыва озера, гляциологи уехали. Остались лишь мы с Костей. Он еще следил за обстановкой.
А я решил поснимать до конца то, что еще может появиться. Через пара дней успели «смыться» перед самым прорывом озера, в то время, когда сель смыл всё, что было в Ванчском ущелье, кроме того оставшийся в кишлаке, в Ванче, вопреки всем предупреждениям местный самолет. От него нашли лишь колесо.
Ю.Кривоносов. Ушли за горючим. 1958
— И вдобавок в каких занимательных местах бывали и что получалось фотографировать?
— Был увлекательный случай в командировке на острове Колгуев в Северном Ледовитом океане. Мне нужно было продемонстрировать жизнь этого острова: в том месте совхоз, олени – рассчитывал снять оленье стадо. А снять я не имел возможности, стадо было на втором финише острова. По суше в том направлении добираться несколько сутки. Время же в упор. Подступала весна, и лед, на что садились самолеты перед поселком, уже был ненадежный. Они садились на лыжах, но через пара дней и на лыжах уже было ни сесть, ни взлететь.
А если не взлететь, два месяца ожидать, пока пароходы придут. У меня же срочный материал. В общем, ничего не получалось с этим стадом. Ну, думаю, хорошо, какие-то нарты с парой олешков имеется, их снял. Но у меня было правило – с фотоаппаратом ни при каких обстоятельствах не расставаться. Куда бы я ни шел, аппарат постоянно висел.
И вот улетаю. Последний самолет. Сижу у окна, смотрю, самолет разворачивается. А в то время, когда он развернулся над островом, я заметил оленье стадо.
И успел сделать один кадр успешный, а больше и не нужно. Прекрасный кадр, чуть размытый, занимательный, и тундра видна, а, самое основное – как пастух гонится за олешками. Вот так, случайно оказалось.
Нужно быть наготове неизменно.
— Какая у Вас техника была?
— Сперва отечественный «Зоркий», еще был широкий аппарат, 6х6, «Роллефлекс» – хороший, но без сменных объективов. Позже «Экзарта» германская и «Экза», к ней подменная камера, в которой ничего не было – лишь кнопка, обратная перемотка, объектив и все. Но трудилась идеально. Так как ничего особенного и не нужно. Основное — уровень качества. А оптика у немцев весьма хорошая… И вот данной аппаратурой я наснимал большое количество.
Был, к примеру, в Сомали, в числе репортеров, сопровождавших правительственные делегации. В том месте кто из издания «СССР», кто из АПН, кто из фотохроники ТАСС… У них у всех «Никоны» с моторами, я один, из «Огонька», со своей примитивной техникой – тюк, тюк. И они нужно мной стали смеяться, говорят: «Как без мотора?
Вот ты снимаешь подписание, а у подписывающего глаза закрыты?..» У меня-то, действительно, получались открыты. Я отвечаю: «Может, у вас между ударами вашего мотора именно глаза и будут закрыты». Ну, они все равно: «Нет, ты ничего не осознаёшь…» Через год летим в Афганистан данной же группой, посадили нас ночевать в Ташкенте, отвели помещение на госдаче, сидим, обсуждаем. Кто-то из ребят вспоминает, что у него с той съемки из Сомали пошло в номер две фотографии, у кого-то другого – также две либо три.
Ну, я так скромненько говорю: «У меня аппаратура нехорошая…» и добываю «Огонек» – а в том месте четыре полосы цветных фотографий плюс две полосы текста еще с тёмными фотографиями, и всё это моим примитивным аппаратом. Они ахнули… А нас еще в армейском училище учили, что снимать возможно самоварной трубой. Нужно лишь мочь снимать.
— Во времена Сталина не было возможности снимать на улице и с высокой точки. Ни при каких обстоятельствах не нарушали данный запрет?
— Не-е-ет. Снимал из окна. А просто так на улицах – нет. На съемку в городе необходимо было особое разрешение.
Фотокорреспондентов останавливала милиция, потребовала особый пропуск. Больше снимать никак было нельзя. В случае если с фотоаппаратом, значит, ты – шпион. Вот такая мания. А с высокой точки не было возможности снимать уже по окончании Сталина.
Все, что снималось с высокой точки, в обязательном порядке нужно было через военную цензуру пропускать.
— А как Вы снимали похороны Сталина? Не с высокой точки?
— Нет, не сверху… История такая. В Колонном зале, где лежал Сталин, трудилось два отечественных фотокорра – Дмитрий Бальтерманц и Алексей Гостев, они три дня оттуда не выходили, обедали, дремали на стульях и отправляли пленку в редакцию. Я тогда трудился в фотолаборатории, мы с напарником пленку проявляли, печатали контрольки мелкие, с каждого кадра по четыре экземпляра – как нам было сообщено, для ЦК.
Позже мы отбирали самые впечатляющие снимки, и с них печатали «в размер» для номера – за время похорон два номера «Огонька» вышло. Нас также трое дней из лаборатории не производили. На четвертый сутки нам все же дали передышку до трех часов, до приезда репортеров с сдачи и похорон номера.
У меня появилось свободное время. Я осознал, что нужно было что-нибудь сделать. Забрал у собственного друга фотоаппарат «ФЭД», и отправился по городу.
Но везде перекрыто. Огибая кордоны, вышел на Каменный мост, к «Ударнику». Отправился в сторону Болотной площади, попал в переулок, что выходит прямо на Кремль. Пусто, никого нет. Ну, думаю, похожу, взгляну. Все равно, больше идти некуда.
А тут начал собираться народ. И к тому моменту, в то время, когда на Красной площади началась траурная церемония, в то время, когда дали гудки, всё кругом выяснилось запружено народом. А у меня объектив – полтинник. Вот лишь влезает, что маленький кусочек, и все. И низко мне. Вижу — первый этаж, в том месте подоконник. Полез на него, а он косой – съезжаю. Каким-то мальчишкам говорю: «Держите меня за ноги».
И вот тут также моя аэрофотосъемка помогла. Я сделал площадную съемку. Другими словами, 7 кадров по Кремлю, по верху, и 7 кадров по низу, по народу, с перекрытием. Снял и побежал в метро. В редакции проявил пленку, и сушить.
Тут приехали репортеры. Мы начали им проявлять, печатать. Позже они потащили материалы показывать. Сейчас я быстренько отпечатал собственные 13х18 — 14 кадров, скрепил их скрепками, сделал «площадь». И в то время, когда репортеры возвратились, дабы уже в макет отобранное печатать, с ними пришел зав. фотоотделом.
Он говорит: «Ой, а это что за фотографии?» Я растолковал. Он схватил, побежал с 1-го этажа, из лаборатории, наверх, в редакцию, на 7-й этаж, в том месте сообщили: «На разворот!» Вот таковой была моя первая фотография, напечатанная в прессе! Такая ее, которая связана с аэросъемкой будущее. И самое основное, что никого – ни кинооператоров, ни фоторепортеров не появилось в том месте. Данный кадр имеется лишь у меня. Так оказалось. Случайно. Будущее меня в том направлении загнала.
Может, имеется предопределение какое-то в жизни. Какая-то мистика…
— Вы сделали много неповторимых фоторепортажей. Имели возможность бы сообщить, какой из них был самый экстремальный?
— Съемка в полете на протяжении петли Нестерова. Миша Мосейчук и Володя Воловень – два киевских летчика, два виртуоза воздушной акробатики – первыми в мире выполнили эту фигуру высшего пилотажа в положении «голова к голове». Они делали это с потрясающей синхронностью: один самолёт летел нормально, а второй – над ним, перевернувшись колёсами кверху, причём расстояние между ними метра три, а возможно и два — летели впритык, к тому же «мертвую петлю» выписывали.
И вот мне пришла в голову шальная идея – полететь вместе с ними и продемонстрировать, как это видится из кабины самолета. Взять разрешение на съемку возможно было лишь у самых громадных глав ДОСААФа, в Москве. Три дня мы пробивали данный ДОСААФ, и, наконец, пришло распоряжение: Кривоносову полёт дать добро, но с условием – «так его пристегнуть в кабине, дабы он никаким образом не имел возможность отстегнуться»… И вот мы взлетели. Вошли в зону.
Я лечу с Володей, а Миша, отечественный «верхний» отходит мало в сторонку, переворачивается кверху колёсами и зависает над нами. У меня аппарат с «двадцатником», у этого объектива весьма широкий угол зрения, и всё равняется верхний самолёт не влезает в кадр полностью, а снимок мне нужен вертикальный, дабы поднялся на полосу издания. У меня на шее лорингофоны, и я говорю: «Миша, чуть вперёд выдвинься, ты в кадр не помещаешься». Вот он выдвигается.
А Володе говорю, дабы он попридержал. В то время, когда мы отечественное неспециализированное положение отсинхронизировали, они начали делать «мёртвую петлю». Это, само собой разумеется, незабываемо – почва-небо, всё перевёрнутое…
— В различных сложных и в принципе ужасных обстановках, возможно, фотоаппарат в чем-то оказывает помощь совладать испуганно, отвлечься?
— В то время, когда наблюдаешь в глазок фотоаппарата и ловишь кадр, ты ничего не видишь и ничего не опасаешься, твое дело надавить на кнопку в необходимый момент – и все. Снимает голова, снимает глаз, снимает палец — в то время, когда вся эта совокупность сработает, и все знания твои сойдутся в этом мгновении, целый опыт твой, нужно надавить в необходимый момент – это весьма совершенно верно должно быть. Время от времени, само собой разумеется, возможно, продублировать. А время от времени – нет т
Как не надо снимать летсплей MineCraft
Интересно почитать:
- Швейцария — вдохновиться красотой водопадов и увидеть мини-италию
- Страны, где можно попробовать самые лучшие напитки
- Понятие и задачи веб-дизайна
- Вивиан майер — известность после смерти
- Western digital расширяет линейку сетевых хранилищ данных (nas)
Самые интересный результаты подобранные по Вашим интересам:
Как снимать фотографии, которые вызывают восторг у людей. секрет пятый.
Неизменно придавайте жизнь собственной фотографии. Возможно, это самое первое о чём забывают все любители, в то время, когда снимают собственных…
-
Как снимать фотографии, которые вызывают восторг у людей
Глубокоуважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию книгу Александра Заморина «Как снимать фотографии, каковые приводят к восторгу у людей». Книга…
-
Как правильно снимать салют и фейерверк
фейерверк и Праздничный салют – это восхитительное зрелище, в то время, когда броские, сказочные цветы на пара секунд распускаются в ночном небе….
-
Как снимать пейзаж? — photopoint
Пейзаж – это один из самых ветхих, распространенных и популярных жанров искусства. Фотографировать прекрасные пейзажи респектабельно и выгодно, поскольку…
-
Хватит читать — иди и снимай!
Сейчас по фотографии показалось довольно много ресурсов, а также русскоязычных, что не имеет возможности не радовать. Возможно в том месте прочесть, как…
-
Как снимать спорт? — photopoint
Многие, кроме того умелые фотографы, отказываются от съемки спортивных мероприятий, доказывая это тем, что у них нет специального фотографического…